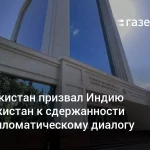Что означает соглашение по роднику Чашма для Центральной Азии? Мнение экспертов

Узбекистан и Кыргызстан 26 апреля анонсировали достижение договорённостей о линии узбекско-кыргызской границы в районе родника Чашма и о совместном использовании родника. «Газета.uz» спросила экспертов, считают ли они, что позитивное урегулирование вопросов границ превращается в тенденцию и может ли прецедент с родником Чашма стать моделью для урегулирования споров по использованию природных ресурсов в регионе, таких как строительство ГЭС или ирригационных каналов. Редакция также поинтересовалась, как властям следует реагировать на возможное недовольство населения приграничных регионов.
Миршохид Асланов, директор Центра прогрессивных реформ (Узбекистан)
Прогресс в урегулировании пограничных вопросов между странами Центральной Азии нельзя считать случайным стечением обстоятельств. Речь идёт о более глубоком и осознанном процессе, который с 2016 года продвигается Ташкентом и постепенно превращается в важную тенденцию региональной политики.
Это во многом обусловлено тем, что государства региона начали осознавать, что нерешённые пограничные споры не только препятствуют экономическому сотрудничеству и развитию трансграничной инфраструктуры, но и представляют серьёзную угрозу для внутренней стабильности. Появление новых каналов для диалога, участие экспертных групп, а также возрастающие ожидания со стороны гражданского общества и бизнеса способствуют тому, что такие вопросы начинают решаться более прагматично и на основе взаимной выгоды.
На протяжении десятилетий вопросы делимитации и демаркации границ оставались источником напряжённости, недоверия и, в ряде случаев, даже насилия. Однако сейчас можно говорить о формировании новой модели регионального взаимодействия, где поиск компромиссов по сложным вопросам является не исключением, а результатом зрелого подхода к обеспечению долгосрочной стабильности в Центральной Азии.
При этом территориальные вопросы являются очень чувствительной темой, особенно в таком регионе, как Ферганская долина. Для многих граждан понятие «территория» связано не только с географией, но и с идентичностью и суверенитетом. Поэтому любые договорённости, предполагающие компромиссы, особенно в форме уступок, могут вызывать эмоциональную реакцию: от тревоги до открытого недовольства.
Чтобы минимизировать негативную реакцию общества, властям важно не только подписывать такие соглашения, но и грамотно их объяснять. Необходимо вести открытую информационную работу, демонстрируя долгосрочные выгоды: мир на границе, развитие инфраструктуры, рост доверия. Важно, при этом, не поддаваться внутренним и внешним провокациям. Только в таком случае компромисс воспринимается не как уступка, а как шаг к стабильности и развитию.
Кроме того, зрелая государственность проявляется не в том, чтобы стоять на абсолютных позициях, а в том, чтобы находить устойчивые решения, которые предотвращают конфликты, устраняют причины эскалаций и создают условия для добрососедства.
Я глубоко убеждён, что население не должно ощущать на себе тяжесть политических границ. Нагнетание страстей вокруг территориальных вопросов, излишняя бюрократия при переходе границ, постоянные споры в использовании трансграничных водоёмов свидетельствуют, прежде всего, о недостатке стратегического мышления и политической зрелости у тех, кто принимает решения.
В XXI веке эффективность государственного управления должна измеряться не жёсткостью риторики, а способностью устранять барьеры, обеспечивать свободу передвижения, сотрудничество и устойчивое развитие для всех граждан, независимо от линии границы.
Если говорить непосредственно о роднике Чашма, то это пример современного, прагматичного подхода: доступ обеспечен, потребности удовлетворены, но суверенитет сторон формально сохранён. Формулировка о роднике как «общем достоянии народов Узбекистана и Кыргызстана», на мой взгляд, не просто дипломатический жест, а знаковый сдвиг в региональной риторике и мышлении.
Такие договорённости отражают новую политическую культуру, основанную на признании взаимозависимости и общем интересе. Подобные достижения уже получают международное признание и рассматриваются как образцовые примеры мирного урегулирования споров в эпоху, когда система международного права и принципы взаимовыгодного сотрудничества повсеместно подвергаются испытаниям.
На этом фоне отход от жёсткой парадигмы абсолютного суверенитета в пользу совместного управления ресурсами, основанного на уважении, балансе интересов и диалоге, выглядит как своевременный и вдохновляющий прецедент, как глоток свежего воздуха в условиях растущей глобальной нестабильности.
Подобные решения могут стать прецедентом для более широкого подхода использованию трансграничных ресурсов в регионе, особенно в водной сфере, где интересы государств объективно переплетены. Например, в обсуждении проблемы строительства крупных гидроэнергетических проектов, как Камбаратинская и Рогунская ГЭС. Эти вопросы по своей природе более масштабны и сложны, поскольку затрагивают не только экологические и экономические аспекты, но и вопросы энергетической безопасности и стратегической автономии. Тем не менее, если государства Центральной Азии смогут выработать принципы общего блага, равноправного участия и транспарентности на более локальных кейсах, как с родником Чашма, это создаст морально-политическую основу для аналогичного подхода и к более амбициозным проектам.
Другая проблема это строительство ирригационных каналов, таких как Коштепинский канал. Это серьёзный вызов не только нашей страны, но и для всей Центральной Азии. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже обозначил конструктивный подход, предложив создать совместную рабочую группу с участием научных институтов для анализа последствий проекта и пригласив Афганистан к открытому региональному диалогу по воде без излишней политизации вопроса. Это разумная и дальновидная инициатива, Афганистан тоже имеет полное право на использование трансграничных водных ресурсов, и нам не надо излишне нагнетать этот вопрос.
Такую проблему невозможно решать в одностороннем порядке. Поэтому необходима единая региональная позиция, основанная на международном праве, научных данных и прозрачности. Задача состоит в том, чтобы убедить афганскую сторону в пользе поиска взаимовыгодного и компромиссного решения этого вопроса. Только так можно избежать конфликтов и сохранить водный баланс в Амударье.
Рустам Бурнашев, специалист по вопросам безопасности стран Центральной Азии, профессор Казахстанско-немецкого университета (Казахстан)

Говорить о какой-либо тенденции пока не имеет смысла, так как большинство проблемных точек, связанных с урегулированием пограничных вопросов между странами Центральной Азии, в той или иной степени или уже сняты или находятся на стадии разрешения. Иными словами, отсутствует серьёзное пространство для развития процесса. Я бы сказал, что снятие вопроса границ — это не тенденция, а закономерность, определяемая той моделью строительства государства-нации, которая реализуется странами Центральной Азии.
Внешняя (международная) безопасность стран региона на протяжении всего периода их независимости обеспечивалась и обеспечивается за счёт того, что все они разделяют так называемые Вестфальские нормы международных отношений: нерушимость границ, невмешательство во внутренние дела других государств и т. д. Соответственно, эффективное урегулирование пограничных вопросов является одной из целевых установок этих государств.
Как правило, проблемы возникали и возникают не на государственном уровне, а на суб-государственном, (как это было, например, в отношениях между Кыргызстаном и Таджикистаном), или уровне правящих групп (как это было, например, в отношениях между Таджикистаном и Узбекистаном).
Прогресс формирования государственности приводит к тому, что значимость указанных уровней снижается, а государственные установки постепенно становятся доминантными. При этом, конечно, нужно иметь в виду, что, если страны региона начнут отходить от Вестфальских установок, вопросы границ могут вновь стать актуальными.
Урегулирование пограничных вопросов, само собой, сталкивается со сложностями, связанными с неприятием выработанных решений на субнациональном уровне: у локальных групп влияния и местного населения. Очень часто это неприятие подкрепляется сакрализацией территории как определяющего фактора нации — парадоксально, но мы продолжаем жить в рамках так называемого «сталинского определения нации» — и недоверием к правящим группам из-за характерного для стран региона «разрыва» между властью и населением. Риск такого неприятия есть всегда, но, как показывает практика, в последние годы он серьёзно купирован как в Узбекистане, где он всегда был достаточно низким, так и в Кыргызстане, где значимость «общественного принятия» политических решений была крайне высокой.
Прецедент с родником Чашма можно рассматривать как интересную модель. Но нужно иметь в виду, что позиционирование того или иного объекта в качестве «общего достояния», очевидно, ситуативно и определяется сложившимися обстоятельствами. В случае родника это обусловлено его природным характером и, в определённой степени, его сакрализацией у проживающих рядом с ним людей.
Создание таких объектов как ГЭС или ирригационные каналы требует несколько иного подхода. Например, у стран региона выработаны достаточно эффективные механизмы достижения договорённостей по водным вопросам на краткосрочную перспективу. Как известно, каждый год наши страны определяют квоты по водозабору из бассейнов рек Амударья и Сырдарья и, в целом, данные квоты соблюдаются.
К сожалению, в этот процесс до настоящего времени не вовлечён Афганистан и, например, квоты на 2025 год не включают в себя водозабор со стороны этой страны. Хотя соглашения, которые действовали между СССР и Афганистаном, такое квотирование предусматривали. Рано или поздно, мы должны будем включать в этот процесс Афганистан. И желательно, чтобы это произошло как можно раньше. Будет ли определение квоты строиться по формату «5+1», в рамках шестистороннего, то есть для всех стран бассейна Аральского моря, или четырёхстороннего — только для стран бассейна Амударьи диалога, мне кажется не принципиальным.
Кроме того, общность можно формировать за счёт создания и функционирования ГЭС или каналов на основе консорциума. Хочу особо отметить, что идея созданий консорциумов для развития «проблемных» экономических объектов не нова и продвигалась ещё в 1990-е годы. Узбекистан, как раз, в вопросе о канале Коштепа предлагает именно такой формат, чтобы снять напряжённость после окончания его строительства.
Ильдар Якубов, специалист в сфере международных отношений, Университет мировой экономики и дипломатии (Узбекистан)
Урегулирование пограничных вопросов, это, на мой взгляд, действительно сложившаяся тенденция региональной политики. Это сложно назвать стечением обстоятельств, потому что мы наблюдаем последовательность этого процесса. И во многом это связано с Узбекистаном, который изменил подход к решению пограничных проблем с соседями. Но следует отметить и то, что раньше по отдельным вопросам страны региона тоже находили решения. Например, Туркменистан и Казахстан договаривались о границе без каких-либо проблем, Узбекистан давно договорился о границе и с Казахстаном, и с Туркменистаном.
На нынешнем этапе сдвинулись с мёртвой точки и вопросы урегулирования пограничных вопросов между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, прежде всего вокруг Ферганской долины. Поэтому недавние соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном и затем о роднике между Кыргызстаном и Узбекистаном, это следствие тех шагов, которые страны региона демонстрировали на протяжении последних лет.
Стоит отметить и то, что страны региона стремятся решать эти вопросы сами, без призывов к внешней помощи и без ощутимого внешнего сопротивления. Этому, конечно, способствует и благоприятная внешняя среда. Центральная Азия сейчас не находится в фокусе международной повестки и не является напрямую вовлечённой в какой-либо конфликт. За счёт этого страны региона получили возможность без излишнего давления и внимания извне решать те вопросы, которые ранее казались трудноразрешимыми.
Я не ожидаю, что соглашение между Узбекистаном и Кыргызстаном вызовет какую-либо серьёзную волну недовольства со стороны общественностей двух стран.
Во-первых, это очень локальный вопрос, затрагивающий небольшой отрезок границы. Тем более, в том же Кыргызстане уже был прецедент урегулирования проблемы, связанной с протестными выступлениями по поводу отдельных участков в рамках основного соглашения по границе с Узбекистаном.
Во-вторых, в регионе уже есть прецедент подобного урегулирования по приграничному Фархадскому водохранилищу между Узбекистаном и Таджикистаном. Оно также административно осталось на территории Таджикистана, но Узбекистан получил к нему доступ и право водопользования, сохранив собственность над самой ГЭС. И приграничное население, напротив, восприняло данные соглашения положительно, потому что многолетний спорный вопрос был решен.
Объявление родника Чашма общим достояниям двух народов — интересный подход к решению проблем использования трансграничных природных ресурсов. Однако, я считаю, что подобная модель не является универсальной для всех аналогичных проблем.
В случае с ГЭС и другими ресурсами между центральноазиатской пятёркой, лидеры государств, конечно, могут договориться в определённый момент и использовать эту модель. Однако ситуация может пойти и по другому сценарию в зависимости от того, например, насколько остро будет стоять проблема дефицита водных ресурсов, как будут складываться отношения между лидерами стран и между самими государствами в будущем.
Кроме того, объявление каких-то жизненно важных ресурсов общим достоянием входит в противоречие с принципом суверенитета, являющимся очень почти сакральным для политических элит региона. Поэтому подобная модель станет более реалистичной, если страны Центральной Азии запустят процесс разносторонней интеграции на всех уровнях, осознают, что данный процесс принесёт больше выгод в долгосрочной перспективе.
Совершенно иного подхода требует урегулирование вопроса относительно строительства Афганистаном Коштепинского канала. Я считаю, что противостоять этому невозможно и его сооружению ничего не помешает. Поэтому Афганистан скоро превратится в серьёзного участника трансграничного водопользования. При этом выработка общерегиональной позиции столкнётся со сложностями из-за серьёзных отличий в позициях государств Центральной Азии относительно взаимодействия с движением «Талибан» в качестве афганской власти, а также разной степени заинтересованности государств региона в вопросах использования вод Амударьи. Более того, и для самого Афганистана Центральная Азия сейчас не является приоритетным регионом, особенно если сравнить с южно-азиатским или иранским направлениями.
Тем не менее, Афганистан стоит привлекать к сотрудничеству с регионом, что, в принципе, Узбекистан пытается делать. И ключевым вопросом представляется то, что государства Центральной Азии могут предложить Кабулу, в том числе в вопросах использования трансграничных водных ресурсов, для установления взаимовыгодного сотрудничества и минимизации противоречий.
Темур Умаров, эксперт Берлинского центра Карнеги (Узбекистан)

На данном этапе я бы воздержался от обобщений. Процесс урегулирования пограничных споров между Кыргызстаном и Узбекистаном начался до того, как аналогичный процесс был запущен между Кыргызстаном и Таджикистаном. Поэтому я бы рассматривал происходящее сейчас в общем контексте кыргызско-узбекских отношений, которые идут в позитивном направлении в последние 5−6 лет.
В отличие от таджико-кыргызской границы, ситуация на границе между Узбекистаном и Кыргызстаном не была столь же накалена. Да, были пограничные конфликты. Да, были конфликты с применением оружия и участием пограничников. Но всё это не приводило к мини-войнам, которые мы наблюдали не так давно между Кыргызстаном и Таджикистаном. Не хочу ни в коем случае принижать значимость договорённостей между Ташкентом и Бишкеком, но надо признать, что изначально сторонам было намного легче, чем в том же процессе между Бишкеком и Душанбе.
Что касается недовольств среди жителей приграничных территорий, то это в целом нормальная ситуация. Скорее всего, договорённости воспримут отрицательно люди, которые потеряют некий свой статус или доступ к определённым ресурсам. Но это уже ответственность государства — объяснить гражданам, что они получат больше выгод от данного соглашения.
Я не думаю, что общественные недовольства, если они и будут, окажутся заметными. Мы уже наблюдали за тем, как первый и главный о границе между Узбекистаном и Кыргызстаном, подписанный в 2022 году, привёл к протестному движению в Кыргызстане. Однако после этого начался процесс жёсткого подавления протестных настроений и посадок активистов и оппозиционных политиков. Поэтому я не ожидаю ни в одной из сторон какого-либо общественного сопротивления, которое бы помешало урегулировать пограничные вопросы.
Что касается самого прецедента с родником Чашма, то использование подобной модели я считаю позитивной тенденцией. Её можно применять для поиска решения по другим вопросам, которые вызывают серьёзные споры, такие как строительство гидросооружений или ирригационных каналов.
Хорошо, что внутри центрально-азиатской пятёрки появились попытки находить гибкие решения по спорам, которые до этого казались нерешаемыми. Условно, раньше было представление, что проблема водных ресурсов должна решаться исключительно в пользу одной из сторон. А подход, при котором те же родники или реки признаются неким общим активом новаторский для нашего региона. Их можно объявлять принадлежащим обеим сторонам в одинаковой доле и давать возможность людям, которые там живут, равноправно пользоваться этими ресурсами. Так страны смогут избежать дополнительных споров как внутри — с обществом, так и на двустороннем уровне.
При этом, важно понимать, что подобный подход пока сложно применить для урегулирования вопроса по строительству Афганистаном Коштепинского канала. Во многом, из-за того, что у государств региона пока нет единой позиции по отношению к «Талибану». Пока что из всех стран Центральной Азии напрямую, тесно с Талибаном общается Ташкент. Есть связи у правительства Афганистана с Казахстаном и Туркменистаном — чуть менее интенсивные и тесные. Ещё меньше их с Кыргызстаном, и они практически отсутствуют — по крайней мере на официальном уровне — с Таджикистаном.
Поэтому выработка регионом какой-либо единой позиции в отношении Коштепы пока представляется мне нереалистичной. Я думаю, что затронутые строительством канала страны региона постараются сфокусироваться на двустороннем диалоге с «Талибаном», чтобы выбить для себя наиболее выгодные условия.