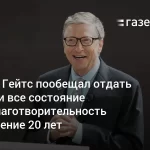Истекающее время

– Узнаете? – достает из серванта копию часов с картины “Постоянство памяти” Сальвадора Дали. – Символ истекающего времени.
– В вашем возрасте это ощущается острее? – осенью Борису Вольфовичу исполнилось 90 лет.
– Не сказал бы, я с 13 лет живу с этим ощущением. Почему в этом возрасте я осознал, что терпеть не могу свои дни рождения. Мы в то время жили в Харькове. Мама готовила вкусности, приходили мои друзья, мы веселились, все вроде хорошо. Я перед каждым днем рождения намечал планы на год, а потом сверялся – дурацкая привычка, скажу я вам. Именно в 13 лет я понял, что многое не успел – настроение сразу испортилось. История повторялась ежегодно. Так и живу. Часы Дали – хороший символ…
***
– Вы счастливый человек? – спрашиваю.
– Конечно! Мне повезло трижды: с мамой, которая всегда и во всем меня поддерживала. С женой, принявшей и разделившей мой выбор. И профессией! На первом месте у меня всегда стояла работа, – не скрывает Борис Вольфович. – Я благодарен супруге Кире Павловне (вместе они прожили 49 лет! – О. А.) за то, что она сразу приняла мое условие: сначала вирусология – потом все остальное, даже семья. И двум книгам…
“Охотники за микробами” Поля де Крюи – увлекательное повествование о реальной работе первых микробиологов. И художественный, но оттого не менее цепляющий роман “Эроусмит” Синклера Льюиса о враче, который, оказавшись на заброшенном острове, создает вакцину от чумы. Прочитав их, харьковский семиклассник Боря Каральник окончательно и бесповоротно решил, кем хочет стать. И не пожалел об этом ни разу.
Он и в Казахстане оказался, потому что в Харькове не нашлось работы по специальности, а уходить в смежные сферы молодой специалист, который только окончил санитарно-гигиенический факультет Харьковского мединститута, наотрез отказался.
– Мы с женой и полугодовалым сыном приехали в Караганду, где мне предложили стать заведующим лабораторией бактериологии областной санэпидстанции, – вспоминает Борис Вольфович. – Буквально через три месяца меня повысили до заместителя руководителя всего лабораторного комплекса СЭС. В то время в Караганде началась крупная вспышка дифтерии – массовой вакцинации против этой инфекции еще не было. Дети умирали.
И сам Каральник чуть не умер. И хотя за свою жизнь какими только инфекциями он не переболел – издержки профессии, тот случай вовсе не связан с вирусами.
– Начало 1959 года. Зима. А у меня из одежки – пальтишко из отцовской шинели и ботиночки демисезонные, даже валенок нет. Несколько месяцев, как переехали в Казахстан. Я, как эпидемиолог, ездил в местную инфекционную больницу помогать лаборанту, который проводил анализ проб на дифтерию.
Приезжала за мной телега. Лягу, меня сеном закидают, чтобы я не околел, и сверху тулуп набросят. В один из таких визитов телега ушла в город за молоком, пока мы в больнице работали. А назад не вернулась – буран разыгрался.
Я домой засобирался, а меня отговаривают: “Вы что?! Опасно!” Я же только из книжек знал, что такое буран в степи – больница эта располагалась не в Караганде, а рядом, в одном из бывших бараков Карлага. Я еще в студенческие времена получил корочку инструктора по туризму, а тут расстояние всего три километра, и все время по дороге. Неужели не дойду?
Ушел. Снег по колено, потом выше… Если бы не жена и наш первенец, я бы опустился на колени и замерз. Как оказалось, я прошел почти 10 километров, сбился с пути. Набрел на террикон – он высокий, с одной из сторон не так задувает, прислонился к нему и отключился.
Нашел меня водитель грузовика, который, на счастье, проезжал мимо и заметил странный сугроб – меня. А вылечила врач – бывшая узница Карлага, которая после освобождения вынужденно осталась в Караганде. Два с лишним месяца я лежал в больнице с воспалением всех оболочек сердца и легких.
***
Борис Вольфович вспоминал эту историю, когда болел ковидом. Тогда его тоже круглосуточно держали на “кислороде”. Разница лишь в том, что в Караганде толком никакого оборудования не было, спасли его знания и старания врача. А так оба раза – чудом избежал смерти, которая решила, что его время еще не истекло.
– Когда начинался ковид, представляли масштаб предстоящего бедствия?
– Я, как и любой нормальный эпидемиолог, представлял. Наш Минздрав, как оказалось, нет. Только этим я могу объяснить, почему так долго не диагностировали ковид в Казахстане. Он на самом деле циркулировал раньше, чем прозвучала фраза “наконец-то появился коронавирус в стране”. Думаю, все специалисты это понимали. Но первоначально возможности диагностики были ограничены, и врачи не хотели поднимать панику – касалось это не только Казахстана.
– Сейчас часто говорят, что ковид – лабораторный вирус. Верите в это?
– Эту версию обсуждали сразу же, но я в ней очень сомневаюсь. Хотя, конечно, в лаборатории можно сделать практически любой вирус. Просто люди, которые этим занимаются, прекрасно понимают, что болезнь захватит и их страну. Другое дело – этническое оружие, оно влияет только на представителей конкретных этносов. Боюсь, что и такие работы уже идут. Их обязательно нужно контролировать, особенно учитывая, что сейчас творится в мире. И готовиться к природным вспышкам новых вирусов – они неизбежно будут повторяться.
***
– Борис Вольфович, вы до сих пор работаете? – обращаю внимание на включенный монитор компьютера, здесь он выглядит как случайный пришелец из XXI века.
– К сожалению, нет. После ковида у меня резко ухудшилось зрение. Это самое страшное, даже хуже, чем потерять слух, с которым у меня тоже проблемы. Я больше не могу читать статьи в интернете, а это подобно профессиональной смерти. Вирусология, генетика, иммунология настолько быстро прогрессируют, что нужно все время обновлять знания. Убедился в этом на собственном опыте.
Несколько лет назад у меня был инфаркт, на пару месяцев я выпал из рабочего графика, а когда вернулся, почувствовал себя первоклассником. Настолько все изменилось. Учиться нужно всю жизнь. И если человек думает, что он все знает, его надо гнать из профессии, какой бы она ни была.
Пока еще немного видел, успел опубликовать три научных обзора. Чтобы написать их, пришлось перелопатить гигантский массив информации – то ли 700, то ли 800 работ коллег со всего мира. Зрение посадил окончательно.
– Сложно без работы?
– Очень, я потерял смысл жизни. Из дома почти не выхожу. Подниматься на четвертый этаж сложно – “мотор” гнусный, никогда не думал, что доживу с таким слабым сердцем до 90 лет. Метеозависимость жуткая. Слушаю музыку и телеспектакли, новости – это то, что могу себе позволить. Грустно? Не то слово.
Раньше мне частенько предлагали: пиши книгу. Ты столько видел, сделал, опубликовал почти 800 научных работ! Отшучивался: кто хочет – не может, кто может – не хочет, кто хочет и может – тому не дают.
Вот это как раз про меня: когда мог написать, не было времени. Теперь есть время, но не могу – ошибаюсь в клавиатуре. И голосовые программы не помогают, тексты после них все равно требуют редактирования.
– О чем сейчас мечтаете?
– Мечтаю, чтобы изобрели искусственный глаз. Такой, чтобы можно было его подключать к нервному глазному центру и видеть. Изобретут обязательно, но я дождаться не успею…
Что-то мы все о грустном заговорили. Пойдемте чай пить!
У меня и конфеты вкусные есть.
Оксана Акулова, фото Владимира ЗАИКИНА, Алматы
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Класснуть