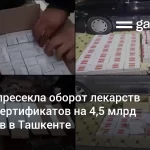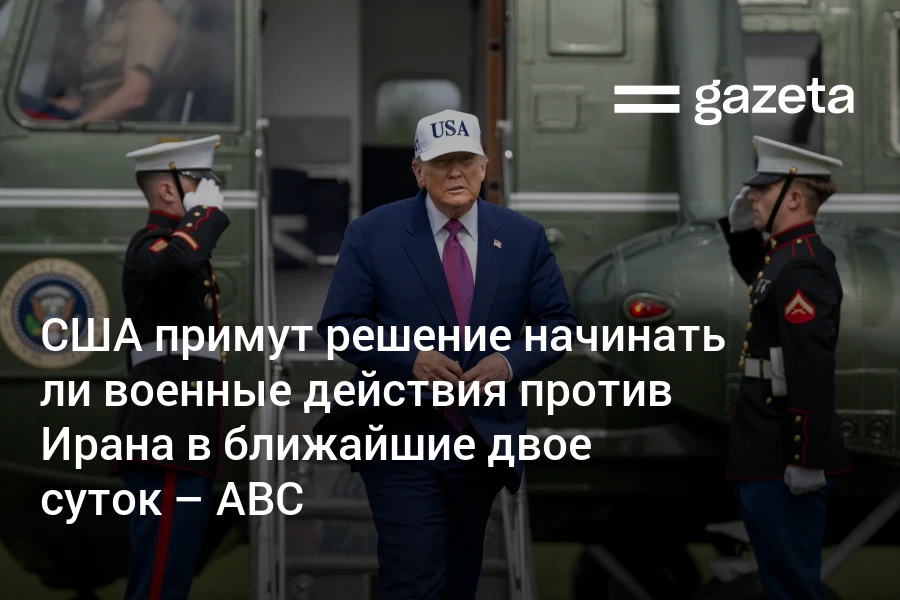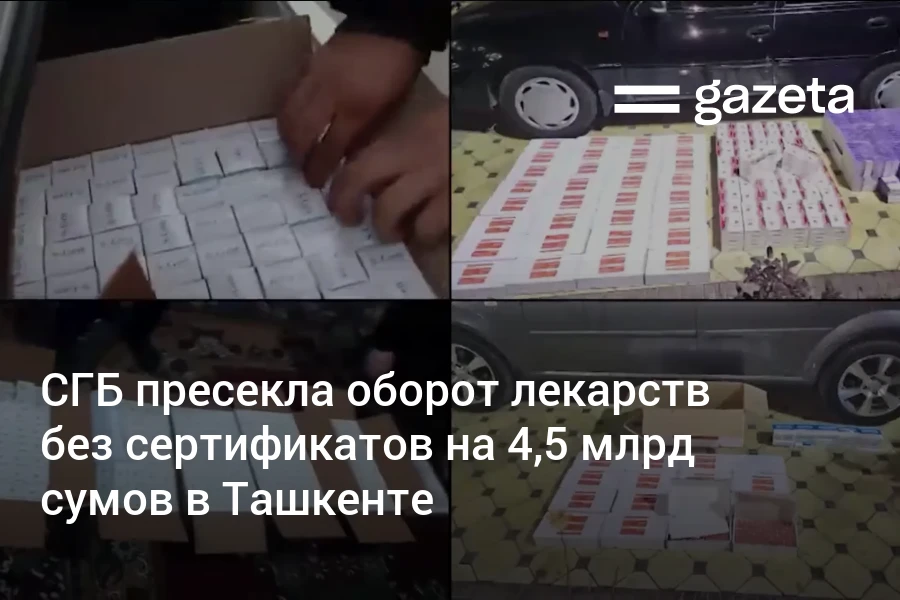Приоритет сотрудничества над интеграцией в Центральной Азии и чему можно поучиться у ЕС

Первый саммит между государствами Центральной Азии и Европейским союзом в Самарканде официально добавил нового партнёра полюбившемуся странам региона формату «С5+», а также, как и полагается большим дебютам, был наполнен заверениями в дружбе и стратегической необходимости друг в друге. О том, какие у Брюсселя интересы, сводятся ли они просто к необходимости протокольно обновить центральноазиатскую стратегию или имеют какие-то далекоидущие цели, ещё будет проанализировано не раз.
А поговорить сейчас хочется о другом. Сотрудничество региона с ЕС имеет определённую символичность. Перезапуск в 2017 году регионального диалога вернул в медиаполе тему региональной интеграции. Ведь в вопросах интеграции ЕС является некоей role model (моделью для подражания). Тем более, он однажды уже был такой моделью, когда страны региона пытались запустить интеграционный процесс в середине 1990-х — начале 2000-х годов.
Правда, тогда — если сравнивать с опытом Европы — наш регион прошёл обратный путь. Как известно, европейская интеграционная модель началась с Европейского объединения угля и стали, которое эволюционировало в Европейское экономическое сообщество, которое, в свою очередь, стало Евросоюзом.
Государства ЦА сделали наоборот. Они начали сразу с Центральноазиатского союза, который превратился в Центральноазиатское экономическое сообщество, которое, в свою очередь, сменила Организация центральноазиатского сотрудничества. Последнюю структуру просто тихо «похоронили» в 2005 году, погрузив регион в длительный период фрагментации и взаимной неприязни. Грубо говоря, если ЕС — это модель интеграции, то Центральная Азия того периода — модель дезинтеграции.
Перезапуск регионального диалога, очень миролюбивая и комплиментарная риторика последних лет как будто намекают на то, что пора бы странам региона задуматься о запуске нового или перезапуске брошенного в середине 2000-х процесса интеграции. Подобные идеи часто звучат как в официальных заявлениях, так и в анализе экспертно-аналитических кругов. И будет неудивительно, если обставленный столь торжественно первый саммит ЦА-ЕС эту риторику усилит. Но готовы ли страны региона к этому процессу?
Почему говорить об интеграции пока рано?
Давайте для начала обозначу свою позицию по интеграции в целом. Я считаю, что интеграционные процессы — это естественная эволюция в международных отношениях. Потому что для людей естественна нелюбовь к границам и тяга к мобильности без преград. Не случайно же новость об отмене визового режима воспринимается людьми с таким воодушевлением.
Более того, по достижении определённого уровня развития общества понимают, что лучше, когда границы объединяют, а не разъединяют. Что лучше, когда границы пересекает гражданский транспорт и туристы, а не военная техника и отряды солдат. Что, к примеру, лучше не воевать за Эльзас, а ездить друг к другу за покупками.
Как примерный внук армянской бабушки, который не может без стакана кефира вечером, я, не найдя его в своё время во французском Страсбурге, часто ездил покупать кефир на автобусе в немецкий Кель (это занимало примерно 15 минут). И каждый раз, когда я смотрел, как люди беспрепятственно пересекают границу в обе стороны, даже не замечая её, я задавался вопросом, что бы сказали пару веков назад те, кто на этом же месте убивали друг друга?
Но будучи вполне естественным порывом, интеграция не может развиваться сама по себе. Для её развития нужны определённые условия. И как раз с этим у Центральной Азии есть проблемы. Наши страны пока не готовы к интеграции по нескольким причинам.
Во-первых, почти 10 лет фрагментации региона, когда было принято отнекиваться от принадлежности к нему, не могли пройти бесследно. У государств региона на данный момент отсутствует региональный уровень мышления. Центральная Азия до сих пор не существует в качестве геополитической концепции, которая бы объединяла наши пять республик. В регион — не без участия самих стран региона — постоянно пытаются запихнуть кого-то извне или вписывают его в какую-нибудь макро-концепцию, отвечающую интересам конкретного внешнего игрока (часть ближнего зарубежья для России, часть тюркоязычного мира для Турции, Центральная и Южная Азия для США и т. д.).
Помимо этого, в самих странах региона центральноазиатская повестка дня до сих пор не является обязательной. О регионе начинают говорить от одного инфоповода к другому. Например, саммит ЦА-ЕС или любая другая встреча в формате «С5+», встречи глав государств и т. д. На постоянной основе о регионе принято говорить постольку поскольку — не более.
Во-вторых, перезапущенный региональный диалог пока является декларативным, нежели практическим. Как и в тот самый период (дез)интеграции, центральноазиатские государства делают заявления о готовности углублять сотрудничество, необходимости интенсифицировать партнёрские отношения и т. д., но пока не переходят к конкретным проектам. Соответственно, интеграцию строить пока не на чем. И создавать какие-то наднациональные институты, которые необходимы для интеграционного процесса, сейчас не просто бесполезно, но и вредно. Это станет дополнительной бюрократической нагрузкой на и без того не начавшееся толком сотрудничество в регионе.
Функционирование этих институтов вхолостую какое-то время будет создавать ощущение деятельности, но, в итоге не стоящая на прочном фундаменте конструкция всё равно рухнет.
В-третьих, интеграция представляет собой добровольное ограничение суверенитета государств в каких-то сферах. Политические элиты государств региона же пока не готовы ограничить собственный суверенитет внутри самих стран. Это авторитарные политические системы, характеризующиеся отсутствием политической оппозиции и стремлением политических элит обеспечить собственную несменяемость. В таких условиях говорить о готовности поделиться суверенитетом (читайте — властью) с соседними государствами преждевременно.
Интеграция Центральной Азии — это долгосрочная цель, которую, выражаясь терминами с уроков математики, мы должны держать в уме, но с текущей повестки дня убрать. В кратко- и среднесрочной перспективах страны региона должны сосредоточиться именно на том, чтобы сам по себе факт встреч пятёрки между собой или с внешними партнёрами перестал вызывать восторг привыкшей к вражде между соседями публики. Чтобы тема регионального сотрудничества стала рутиной в медийном поле и деятельности госструктур. Наконец, приоритизировать проекты, которые превратят региональное сотрудничество из просто формулировки для совместных заявлений после встреч на высшем уровне в существующий и эволюционирующий на местах процесс.
Лидеры стран Центральной Азии и руководители ЕС на саммите в Самарканде 4 апреля. Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.
Уроки от ЕС
В процессе налаживания регионального сотрудничества, а также для создания базы для будущей интеграции нашему региону есть чему поучиться у ЕС.
Урок №1. Центральной Азии нужны свои «уголь и сталь». Говорить о каком-то региональном сотрудничестве (и тем более, интеграции) без основы, вокруг которой все эти процессы будут разворачиваться, которая свяжет государства региона взаимными интересами и заставит сотрудничать даже при наличии разногласий, бесполезно.
Нельзя сотрудничать и интегрироваться вокруг братских чувств, дружбы лидеров, заявлениях о намерениях и других абстрактных понятий. В основе региональных процессов должны лежать реальные механизмы.
Поэтому в среднесрочной перспективе государствам нужно найти те самые «уголь и сталь». Это могут быть водные ресурсы, которые многие ведомственные аналитики до 2016 года относили к «непреодолимым противоречиям, из-за которых никакого диалога никогда не будет». Или, например, транспортные инфраструктурные проекты, которые нужны одинаково всем странам региона, но которые раньше они рассматривали как поле для жёсткой конкуренции.
Урок №2. Spillover effect (эффект снежного кома). Европейская интеграция началась с сотрудничества в очень узкой сфере. Развитие такого сотрудничества способствовало запуску сотрудничества в других сферах, что, в свою очередь, углубляло интеграционные (в случае с Европой) процессы и вовлекало в них всё больше и больше секторов. Государствам Центральной Азии тоже нужны свои малые проекты, которые позволят запустить хоть какой-то механизм регионального сотрудничества. А дальше реагировать по потребностям, которые появляются в процессе реализации проектов, и не упускать возможностей делать следующий шаг.
Но эффективность подобного механизма возможна только тогда, когда государства принимают решения на основании долгосрочного планирования. В наших странах некая гигантомания (самый большой флаг, самая большая гора фруктов на встрече, самый большой баннер и т. д.) мешает формированию прагматичной повестки дня. Поэтому к маленьким проектам — пусть даже с большим потенциалом в долгосрочной перспективе — отношение скептическое.
Условно говоря, анонсированный уже много раз, но так и не запущенный проект центральноазиатского шенгена может казаться всего лишь визовым проектом. Но его запуск повлечёт за собой необходимость установления и постоянного поддержания сотрудничества в большом количестве секторов.
Урок №3. Регион не уходит с повестки дня. Помните, во время пандемии в 2020 году была отменена консультативная встреча глав государств ЦА? Официально было заявлено, что у них слишком загруженный график внутри стран. Более того, встречи глав государств начались в 2018 году, а вся пятёрка в полном составе впервые собралась только в 2021 году. До этого по разным причинам — то кто-то поссорился, то кто-то предпочёл другую встречу — пятёрка не собиралась. Согласитесь, сложно представить подобное в рамках европейской интеграции — даже со скидкой на то, что там процесс более долгий и глубокий.
Центральноазиатское направление внешних политик государств региона, о котором они все заявляют как о приоритете, должно стать приоритетом на деле. И встречи глав государств должны стать такой же рутиной, как и другие протокольные мероприятия. Если спустя семь лет после перезапуска диалога эти встречи будут сопровождаться восторженным ажиотажем, значит, процесс регионального сотрудничества работает вхолостую.
Урок №4. Де-персонификация регионального сотрудничества. Перезапуск диалога в Центральной Азии стал возможным исключительно благодаря принятому в верхах решению. Для запуска того или иного процесса — это нормально. Не секрет, что европейский проект тоже начался благодаря политической воле тогдашних элит. И было бы лукавством сказать, что те главы государств соблюдали все демократические процедуры в их классическом понимании. Да и послевоенному европейскому обществу было не до глубокого анализа ситуации — оно просто хотело мира. Это существенно облегчило начальный этап евроинтеграции. Есть даже шутка, что, если бы основатели евроинтеграции проводили референдумы по каждому вопросу, проект бы умер, так и не начавшись.
Но жизнеспособным европейский проект сделало то, что весь процесс очень быстро сверху переместился вниз, охватывая как межведомственные отношения, так и общества. К тому же, если первые проекты инициировались сверху, то со временем то, что мы сейчас воспринимаем как евроинтеграционные механизмы, запускалось во многом благодаря соответствующему общественному спросу, например Шенгенская зона или Болонский процесс.
Чем быстрее сотрудничество в ЦА из отношений между главами государств превратится в отношения между странами, тем больше шансов у этого процесса стать устойчивым, не зависеть от транзитов власти, которые рано или поздно произойдут, и создать механизмы, которые будут функционировать вне зависимости от того, кто приходит к власти.
Урок №5. Молодёжные проекты. ЕС много ресурсов тратит на различные молодёжные проекты. Если посмотреть на студентов Erasmus, то это вообще ходячая реклама евроинтеграционного проекта. Обращать внимание на молодёжь — это, конечно, не какое-то ноу-хау. Любая власть или система, которая теряет молодёжь, не понимает её потребностей и не находит поддержки, перестаёт быть жизнеспособной.
Так как интеграция в нашем регионе может быть лишь долгосрочной целью, то как раз проекты, ориентированные на молодёжь, являются важной инвестицией на пути к ней. И в процессе реализации данных проектов следует не бояться дать молодёжи самой решать, что ей надо, что интересно и в каких сферах она хочет объединяться — будь то соревнования по кибер-спорту или конференция молодых учёных.
Властям следует ограничить своё участие исключительно к поддержке и принятию необходимых для запуска проектов решений. Тормозные рычаги, которые, как минимум в нашей стране, под брендом «ma’naviyat va ma’rifat» очень долго пытались загнать молодёжь в рамки, совершенно ей не нужные, следует полностью исключить.
О новом этапе регионального сотрудничества, который мы наблюдаем с 2017 года, пока рано делать далекоидущие выводы. Есть ощущение, что сами государства действуют больше интуитивно, понимая, что это правильное направление. Но при этом не обладая каким-то чётким пониманием того, к чему должен привести этот процесс и какие задачи должны стоять. С одной стороны, хорошо, что есть желание властей поддерживать диалог, реализуется формат «С5+», а также осуществляются небезуспешные попытки урегулировать основные проблемы двусторонних отношений. С другой стороны, сотрудничество остаётся декларативным, личные отношения между главами государств всё ещё являются определяющим фактором как двусторонних отношений, так и многостороннего формата, страны не спешат переходить к запуску каких-либо реальных проектов, которые могли бы стать основой для более амбициозных идей, а также обеспечили бы установление связей на всех уровнях системы госуправления.
Неготовность региона к интеграции — это не проблема, которую стоит стыдиться или скрывать. Это просто факт, обусловленный историей существования региона с момента обретением государствами независимости. И этот факт нужно принять. Это позволит сделать повестку дня регионального диалога более прагматичной и ставить перед собой более реалистичные цели. Поэтому важно, чтобы страны региона не стремились форсировать процессы, которые заведомо закончатся неудачей. Тем более, опыт заявлений о едином рынке и единой валюте, не подкреплённых никакими действиями и приведших к краху так и не начавшегося регионального сотрудничества, уже есть. Не хотелось бы, чтобы Центральная Азия упустила второй шанс построить эффективное и устойчивое региональное сотрудничество.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.