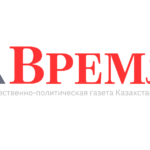Иван Грачев: “Без мира с Россией европейцам не светят углеводороды из ЦА”

“КНР осознает свою крайнюю уязвимость в энергетике и пытается использовать для выхода из этого тупика сложные, если не сказать сомнительные, варианты”, – полагает главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Иван Грачев. В нынешней статье для “БИЗНЕС Online” эксперт объясняет, как немцы хотят оживить свою “полудохлую” экономику, для чего глава МИД Китая опять приехал к Путину и почему Трамп не обрушит цены на нефть.
Вместе с американцами немцы хотели забрать весь туркменский газ в обход России
От политики вернемся в энергетическую вселенную. Начну с энерголузера Европы. В Самарканде 3–4 апреля состоялся саммит, где, не скрывают европейские эксперты, прежде всего речь шла об углеводородах. Европейцы надеются, что Центральная Азия станет для них источником дешевой энергии. На эту тему 31 марта вышла занимательная статейка в The Economist, транслирующая мнение главы Siemens Ральфа Буша, который рассуждает о том, как можно оживить полудохлую немецкую экономику.
В его “спиче” можно выделить три основных тезиса. Первый касается необходимости дебюрократизации, мол, слишком сложно стало открыть бизнес и т. д. Второй о захвате европейских рынков, возврате к тому, чтобы Германия доминировала там. Третий тезис – необходимость дешевой надежной энергии без упоминания, где ее взять. Повторюсь, европейцы предполагают, что можно ее раздобыть в Центральной Азии, где много нефти и газа. Эксперты из разных стран отмечают, что европейцы ради этого готовы польстить руководителям центральноазиатских стран, сделав реверанс в виде отказа от упоминания прав человека и разных “бербоковских” штучек (Анналена Бербок – министр иностранных дел Германии). Я окончательных документов саммита не видел, но думаю, так оно и есть.
Будучи главой комитета по энергетике в Госдуме, я являлся сторонником взятия украинских газовых труб “на три ключа”. Была тогда идея, что украинские трубы, нуждающиеся в ремонте, можно отремонтировать за счет германских банков и крупнейших компаний, таких как химический концерн BASF. Одни вкладывают деньги, другие – газ, третьи – трубы. И все вместе становятся совладельцами, получают прибыль. Немецкие энергетики и европейские банки очень этого хотели, в ту пору они еще не так боялись американцев. И на Украине, и в России были силы, готовые к такому решению. На мой взгляд, это прекращало бы газовые войны, по крайней мере резко уменьшало бы вероятность “горячей войны”.
Но были немцы, которые оказались противниками этой идеи. Вместе с американцами они проталкивали альтернативный проект снабжения Европы, прежде всего газом, полагая, что сумеют весь туркменский газ забрать через трубы в обход России. Я пытался объяснить этим ребятам, что ничего подобного не будет, потому что основную часть газа в случае чего обязательно забрал бы Китай. Он сильнее, ближе к газу, и он ему позарез нужен. На данный момент пока так и произошло.
Без мира с Россией европейцам не светят углеводороды из Центральной Азии
Американцев переубеждать я и не пробовал, потому что понимал, какие задачи они в этом плане решают. Характерно, что сегодня дальнобойные украинские ракеты и дроны, которые, как отметил президент России Владимир Путин, не могут работать без спутникового обеспечения и разведобеспечения США, наносят удары не только по нефтепроводу “Дружба”, снабжающему Венгрию, Словакию и Чехию нефтью, но и вовсю долбят по путям перекачки Каспийского трубопроводного консорциума, отсекая Европу от нефти казахстанской. Так что я, как и ранее, думаю, без мира с нашей страной европейцам не сильно светят углеводороды из Центральной Азии. Хотя саммит – дело, конечно, хорошее.
Эксперты Штатов оценивают текущие пригодные к добыче полезные ископаемые Гренландии в $200 млрд, а долгосрочную стратегическую прибыль от Гренландии в Арктике – в $3 триллиона.
“Эксперты Штатов оценивают текущие пригодные к добыче полезные ископаемые Гренландии в 200 миллиардов долларов, а долгосрочную стратегическую прибыль от Гренландии в Арктике – в 3 триллиона долларов”
Переходя к Соединенным Штатам, которые не только отсекают Европу от газа и нефти из Центральной Азии и РФ, но и занимаются чисто энергетическими делами. Методично отменяют гранты на “зеленую” энергетику, которые были введены при Джо Байдене, снимают ограничения на традиционную энергетику, в том числе угольную, продлевают сроки работы АЭС, дают разрешение на новое проектирование строительства, одновременно занимаются стратегическими оценками по захвату Гренландии.
Американцы фиксируют, что Дания тратила на Гренландию порядка $600 млн в год, они же намерены тратить больше. Эксперты Штатов оценивают текущие пригодные к добыче полезные ископаемые Гренландии в $200 млрд, а долгосрочную стратегическую прибыль от Гренландии в Арктике – в $3 триллиона. Я писал в “БИЗНЕС Online”, что Штатам нужна Гренландия, они могут ее забрать и, скорее всего, заберут. Как понимаю, наш президент, встречаясь в Арктике с подводниками, также сказал, что это никакой не шум, а вполне реальные планы.
Несколько по-иному – не в стиле many, а в стиле much – дают западные эксперты стратегические оценки по взаимодействию Штатов с Россией в Арктике. Например, в статье “Север манит: что может дать Трампу российская Арктика” в Washington Post от 31 марта эксперты фиксируют, что совместная работа США и РФ после взятия под контроль Гренландии обеспечила бы полный контроль над всей логистикой Арктики и эффективную совместную работу по углеводородам. Прежде всего по СПГ.
Китай осознает свою уязвимость в энергетике и пытается использовать для выхода из тупика сомнительные варианты
В статье также ссылаются на заявление госсекретаря США Марко Рубио, который подчеркивал, что если этого не сделать сегодня, то союз России и Китая в Арктике может стать необратимым. Думаю, именно из-за такого рода стратегических оценок глава МИД Китая Ван И опять приехал к Путину. Ван И заявил, что его страна будет закупать углеводороды у РФ независимо от третьих стран, которые угрожают вторичными санкциями. На эту тему в Рунете после заявления Трампа о возможных вторичных санкциях, если Россия быстро не подпишет мирные соглашения, пошли алармистские заявления о том, что американский президент вот-вот обрушит цены на нефть.
Но я уже говорил, что у Трампа себестоимость добычи на сланцевых месторождениях порядка $70 за бочку. При такой себестоимости дешево продавать нефть невыгодно. Плюс к этому вышеизложенное заявление Китая о неподчинении вторичным санкциям. А тут еще и ОПЕК+ собирается снова посмотреть на дисциплину выполнения ранее согласованного уменьшения добычи нефти. В частности, разобрать поведение Казахстана, который не выполняет соглашений. Подписал и не выполняет. Думаю, c учетом того что в ОПЕК+ Саудовская Аравия и Россия все-таки главные, с подключением нашей страны дисциплина восстановится.
Что касается Китая, мне чрезвычайно интересны две темы недавних заявлений. Одно из них сделано в истинно китайском стиле, мол, открыто крупнейшее месторождение тория – тяжелого слаборадиоактивного металла. Это обеспечит китайскую электроэнергетику энергией на 60 тыс. лет. Второе: Поднебесная запустит первую в мире гибридную термоядерную станцию в 2030 году.
Для меня данные сообщения говорят в первую очередь о том, что КНР осознает свою крайнюю уязвимость в энергетике и пытается использовать для выхода из этого тупика сложные, если не сказать сомнительные, варианты. Не вдаваясь в подробности, можно констатировать: в современной атомной энергетике торий неприменим, т. к. он не делится под воздействием тепловых нейтронов. В то время как почти все имеющиеся атомные станции работают с медленными тепловыми нейтронами. А гибридный реактор – это штука намного более сложная, чем обычные блоки АЭС.
Почему Китаю нужны проекты с “Росатомом”
Если объяснить вульгарно, то обычный блок атомной станции – это своего рода “самовар” (так его называют многие атомные энергетики). Вместо угольной трубы у “самовара” топливные стержни. Гибридный термоядерный реактор – это уже очень хитрый “самовар”, позволяющий использовать торий с многослойными стенками и сложнейшим токамаком внутри, выступающим в качестве генератора быстрых нейтронов. Токамак – это такая штука, в которой греют плазму до температуры выше температуры Солнца. К этому надо добавить, что реальный опыт работы с быстрыми нейтронами у России побольше, чем у кого бы то ни было, включая китайцев. Хотя бы потому, что у нас сосредоточено большинство реакторов на быстрых нейтронах, существующих в мире.
Я, безусловно, желаю КНР успеха в этом сложнейшем проекте, позволяющем использовать торий. Однако полагаю, что выход страны из энергетического тупика прежде всего в совместных синергетических проектах с нами. Не только по нефти и газу, нужно работать и с “Росатомом”. К сожалению и для нас, и для Китая, Россия нередко дает основания сомневаться в том, что подобные проекты возможны.
Довольно давно, в 2005 году, было подписано соглашение между компанией ОАО РАО “ЕЭС России” (существовало до 2008 года) и Государственной электросетевой компанией (ГЭК) Китая, определяющее порядок долгосрочного сотрудничества и объемы поставляемой российской электроэнергии. Согласно договоренностям, планировался экспорт до 50 млрд кВт.ч. В марте 2006-го были подписаны соглашения между “ЕЭС России” и ГЭК Китая “о всесторонней разработке ТЭО, проекта поставки электроэнергии из Российской Федерации в КНР”. Проект предполагал возможность увеличения экспорта до 60 млрд кВт.ч в год. Реальный же экспорт доходил до 3,5 млрд кВт.ч.
Решений по российским энергодефицитным регионам пока нет
Сейчас, насколько я знаю, экспортируется меньше одного кВт.ч. Почему? Потому что наши некоторые российские территории, например Дальний Восток и Забайкалье, стали крайне энергодефицитными. Об этом говорил наш президент еще осенью, требуя срочно разработать специальную программу опережающего развития энергетики Дальнего Востока и примкнувших территорий.
С сожалением можно отметить, что ничего похожего на данный момент не произошло. Никакой специально утвержденной программы опережающего развития нет, по крайней мере я о ней не знаю. Ничего похожего не видно и в генплане до 2042 года. Мне представляется, что часть нашего правительства и системный оператор ищут решение проблемы дефицита электроэнергии в рамках псевдорыночной реформы Анатолия Чубайса. А там такого решения нет, это задача не рыночная.
Опережающее развитие Дальнего Востока на весь XXI век пока видится в перспективе переноса центра тяжести мировой экономики, следовательно, российской, ближе к Тихому океану. Это требует еще более опережающего развития энергетики региона на весь этот период. Совершенно очевидно, повторю, это абсолютно не рыночная задача, которую реально надо решать на государственном уровне.
Кстати сказать, и юг России имеет такой же энергодефицит, и там тоже на данный момент никаких решений нет. Понятно, что развитие энергетики энергодефицитных регионов – это задача государственная, стратегическая, которая должна решаться в режиме госпланирования. С привлечением всей мощи страны, что как раз позволило бы строить совместные синергетические проекты с Китаем.